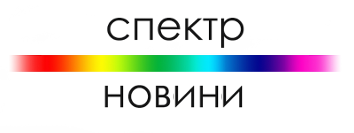Пока «Газпром», не дожидаясь согласия китайцев, строит колоссальную по уровню затрат газопроводную систему «Сила Сибири — 2», в других частях света обсуждают плюсы и минусы двух способов доставки газа потребителям: трубопроводами или морем, в судах-газовозах.
Проект магистрального газопровода TAPI (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) — хороший пример. Аналитики компании Wood Mackenzie советуют правительству Пакистана отложить решение об импорте газа по такому маршруту по крайней мере до 2031 года, и в Исламабаде всерьез задумались о том, чтобы и вовсе выйти из проекта общей стоимостью более 13 млрд долларов.
Страна подписала слишком много долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа, а потребление топлива не растет и даже проявляет тенденцию к снижению. Дошло до того, что Пакистан пересматривает и собирается аннулировать уже заключенный с Катаром контракт на поставку 177 партий сжиженного природного газа (СПГ) в 2025–2030 годах.
Коммерческие выгоды TAPI для Пакистана вызывают всё больше сомнений, особенно если к проекту откажется присоединяться Индия. В этом случае пакистанцы не смогут зарабатывать 700–800 млн долларов в год на транзите между Афганистаном и Индией, а платить афганцам за транзит по 500 млн в год всё равно придётся.
При этом базовая цена газа, который поступит по этому маршруту, определена уже в 7,50 доллара за миллион BTU (британская тепловая единица — мера энергии, примерно соответствующая 28 кубометрам газа. — Ред.). С учетом платежей за транзит и других издержек этот газ окажется дороже импортного СПГ.
Дефицита СПГ на глобальном рынке не ожидают. Ожидают избыточное предложение, которое опустит среднюю цену сжиженного газа в Азии ниже 7 долларов за миллион BTU.
Целесообразность получения газа по трубе ставят под сомнение и страны, которые не имеют выхода к морю или лишены возможности построить стационарный терминал по приему и регазификации СПГ или арендовать плавучий терминал. Та же Болгария давно отказалась от услуг «Газпрома» в пользу поставок с греческих терминалов.
Здесь уместно вспомнить широко обсуждавшиеся домыслы о гипотетическом газопроводе из Катара или Ирана в Европу. Некоторые комментаторы этой идеи договорились до того, что война в Сирии якобы началась с подачи «Газпрома», который не хотел пускать газ катарских конкурентов в Европу. Примечательно, что за мифический проект до сих пор агитируют турки, которые хотят создать на своей территории хаб для поставок газа в ЕС.
Опровергнуть домыслы было просто. Вкладывать огромные средства в трубопровод, нацеленный на южную Европу с её и без того микроскопическим, да к тому же угасающим спросом на газ? Строить через политически нестабильные территории с непредсказуемыми режимами? Выбрать в качестве транзитера или даже хаба Турцию, которая не отличается стабильным отношением к поставщикам газа (опять опыт «Газпрома»)?
И главное: зачем гнать газ по трубе на территориально ограниченный и коммерчески малопривлекательный рынок, финансируя дорогостоящую инфраструктуру, когда произведенный в Персидском заливе СПГ можно отправить в любом направлении? Преимущества морской доставки перед газопроводом очевидны.
И наконец, сравнение морской и трубопроводной доставки газа по экономическим показателям зависит от расстояния и тарифа на прокачку по трубам. При всех других равных условиях, если тариф не превышает 50 центов за миллион BTU, СПГ становится выгоднее на дистанции 7 тысяч километров. А при тарифе 1 доллар суда-газовозы бьют трубопровод по рентабельности при доставке на 3 тысячи километров.
Это не означает, что нужно отказаться от длинных магистралей. Такие проекты находят поддержку во многих регионах. Один из примеров — Африканско-Атлантический газопровод длиной почти 7 тысяч километров и стоимостью около 26 млрд долларов. Он должен пройти по морскому дну от Нигерии вдоль западного побережья Африки до Марокко с перспективой выхода на Европейский континент. По дороге он сможет доставить газ в 11 стран. Организаторы — марокканская компания ONHYM и нигерийская NNPC — утверждают, что рентабельность проекта достигает 12%, и ждут заинтересованных инвесторов.
Окончательное решение по этому проекту не принято. Не исключено, что потенциальные страны-участницы предпочтут не связываться с монопольным поставщиком и организуют каждая у себя самостоятельный прием СПГ с мирового рынка. Рынок, судя по всему, движется именно в этом направлении.
Поведение рынка — урок для российской газовой отрасли. Привычка строить сверхдлинные газовые магистрали, рассчитанные на благосклонность потребителей в одной стране или в нескольких странах ограниченного по размерам региона, ставит поставщика в зависимость от капризов покупателя, который начинает диктовать и цены, и условия поставок.
Это уже произошло с первой «Силой Сибири», с практически бездействующим газопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток, с гигантскими по длине и мощности коридорами из Ямало-Ненецкого автономного округа к Балтике и Черному морю, где провалилась затея с «Северными потоками», а вместо «Южного потока» появилась его сокращенная версия — «Турецкий поток».
В условиях бурного развития индустрии СПГ у России появилась возможность выйти на этот новый и перспективный рынок. Пионером стал завод проекта «Сахалин-2», куда впоследствии под сильнейшим административным давлением влез «Газпром», а потом за дело взялась компания НОВАТЭК. Ей удалось привлечь иностранных партнеров, деньги и технологии — и на свет появился завод проекта «Ямал СПГ».
Планов было много, и российское правительство стало ориентироваться на завоевание серьезного места на мировом рынке СПГ, пока новые проекты не подкосила развязанная против Украины война. Под предлогом наказания агрессора американцы — главные конкуренты России на рынке СПГ — инициировали мощные санкции, остановившие развитие этой отечественной отрасли. А трубопроводные проекты, включая и разрекламированную «Силу Сибири — 2», остаются затеями некоммерческими и приносящими «Газпрому» больше убытков, чем прибылей.
Возвращение России в русло мирового развития газового рынка будет возможно только после окончания войны и снятия с нее международных санкций.